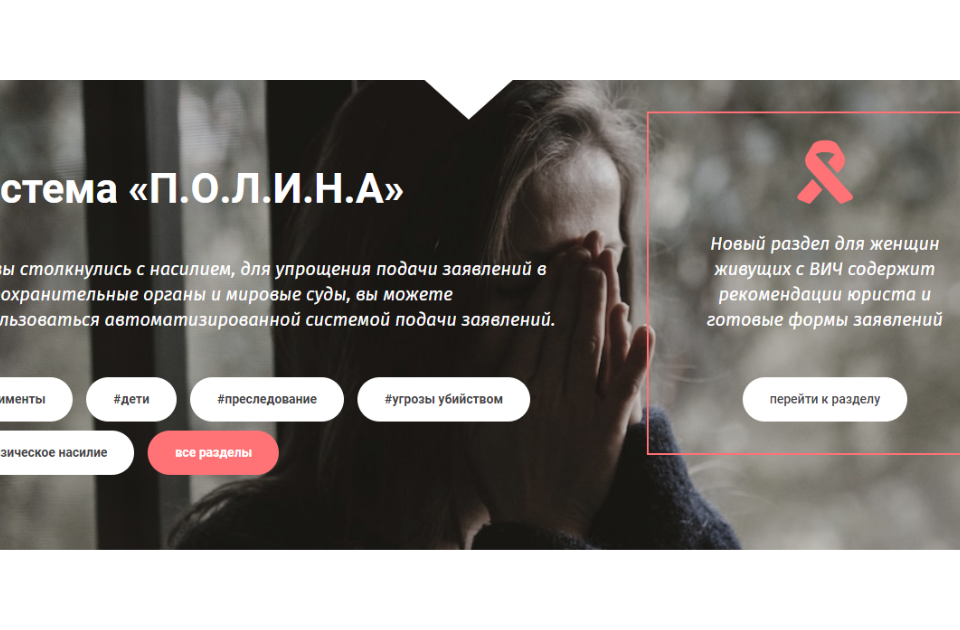Итак, давайте суммируем. У нас есть неформальная организация «Сквер», нас признали иностранными агентами. Я ее руководитель. Что делать?
Маркируйте сайт, маркируйте соцсети организации и свои собственные соцсети, маркируйте все печатные материалы, сдавайте отчеты.
С маркировкой вам придется задаться вопросом — где пределы того, что надо маркировать. Что насчет визиток? А если вы раздаете пустые блокноты участникам встречи — это уже информационный материал или нет?
Следите за личными соцсетями. Если вы напишете в личном твиттере, что у вас дома плохо топят — это уже может считать оценкой действий органов власти, то есть политической деятельностью.
Как протестовать и спорить со статусом инагента?
Теоретически можно обжаловать решение Минюста в суде. Надо сказать, мне очень интересно, как это будет происходить в случае незарегистрированной организации.
Вернемся к нашей инициативной группе «Сквер». У нее нет устава и формального руководителя, но ее признали инагентом. Условная Маша Иванова от имени этой организации хочет оспорить включение в реестр. Возможных исходов два: либо суд решит, что Маша не имеет полномочий представлять организацию, и административный иск будет возвращен, либо Машу признают руководителем организации со всеми вытекающими последствиями — обязанностью сдавать отчеты и штрафами за несдачу и т.д.
В какой суд идти?
По месту нахождения органа, который внес в реестр.
Но ведь в реестр вносит федеральный Минюст?
Изначально то, что инагентами организации признает федеральный Минюст, было своеобразной поблажкой — якобы это должно было уберечь региональные организации от местных чиновников, которые могли иметь к ним личные счеты. Но по сути это оказалось бессмысленно — все равно федеральный Минюст признает инагентами на основании проверок, проводимых теми самыми региональными чиновниками.
Если вы подаете административный иск к федеральному органу, но проблема вытекает из деятельности территориального органа, его можно подать в суд по месту нахождения территориального органа.
Ну и как, будут у меня шансы победить в суде?
Я не знаю ни одного случая, когда НКО-«инагенту» удавалось оспорить решение Минюста. Если есть ресурсы, можно исчерпать четыре инстанции и дойти до ЕСПЧ. Госпошлины небольшие, вопрос только в оплате юристов, которые этим будут заниматься. Впрочем, существуют НКО, помогающие другим НКО, попавшим в такую ситуацию, так что можно найти бесплатного представителя.
Эффективной стратегии, которая позволит убедить суд в том, что вы не враг народа, не существует. Результатом с вероятностью 99% будет проигрыш. Но если вы настроены бороться и идти в ЕСПЧ, надо смотреть, что было признано политической деятельностью, и заявлять о том, что это не политическая деятельность в нормальном смысле этого словосочетания — то есть не борьба за власть, а здоровая активность гражданского общества.
В любом случае, придется апеллировать к праву на свободу объединений, если у вас организация-инагент, и к праву на выражение мнения, если вы физлицо. Еще можно говорить о том, что закон слишком неконкретный и из него невозможно понять пределы налагаемых на организацию обязанностей — например, в части маркировки «информационных материалов».
От обращения в ЕСПЧ будет толк?
Честно говоря, я разочарована Европейским судом — вот уже восемь лет он не может высказаться по поводу ситуации с «иностранными агентами».
Первая жалоба была подана еще в феврале 2013 года — до того, как закон впервые применили. Жалобу подали 11 НКО, которые считали себя потенциальными жертвами закона. Что примечательно, десять из них в итоге в реестре оказались. Только одна — Московская Хельсинкская группа — туда не вошла, и то лишь потому, что они сразу отказались от всего иностранного финансирования. Все остальные волновались не зря.
ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы, задал вопросы заявителям и российскому государству, но на этом все и кончилось. Ответы на вопросы Суд получил еще в марте 2018 года, а постановления до сих пор нет. Хотя мы много раз говорили на всех доступных нам площадках: пока вы молчите, нас убивают.
Если постановление все-таки будет вынесено до того, как гражданское общество в России добьют окончательно, хотя бы все выплаченные штрафы должны вернуть.
Итак, нашу незарегистрированную группу «Сквер» признали «инагентом». Если ничего не делать — не идти в суд и вообще не подавать никакие документы, что будет дальше?
Власти каким-то образом определят должностных лиц этого объединения и будут бомбить их штрафами.
На самом деле физическим лицам, которые проигнорируют решение Минюста, придется гораздо хуже. Им грозит уголовное дело — с первого раза, если они собирают «информацию, угрожающую военной безопасности», или со второго, они просто занимаются политической деятельностью. А там срок — до пяти лет, всё очень серьезно. Такой срок можно получить, например, за убийство при наличии смягчающих обстоятельств.
А есть ведь еще тема иностранных нежелательных организаций, с которыми вообще сотрудничать нельзя ни в коем случае. Про эту тему немного подзабыли. Там есть что-то новое?
Совсем недавно, 4 мая, в Госдуму были внесены два законопроекта, предусматривающие ужесточение законодательства о «нежелательных» организациях.
Предлагается, во-первых, запретить участие в деятельности таких организаций не только внутри, но и за пределами РФ, а во-вторых, облегчить привлечение к уголовной ответственности за связь с «нежелательными» организациями.
Сейчас уголовная ответственность за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает после двух привлечений к административной ответственности в течение года. Законопроект предлагает снизить этот порог до одного раза. Правда, наказание слегка смягчат: человеку будет грозить от одного года до четырех лет заключения, а не от двух до шести лет, как сейчас.
Зато за руководство «нежелательной» организацией уголовное дело предлагают возбуждать сразу, минуя административную ответственность вообще. И здесь наказание останется прежним — до шести лет колонии.
Причем в случае принятия обоих законопроектов к ответственности можно будет привлечь и за взаимодействие с «нежелательной» организацией за пределами страны.
То есть человек съездил за рубеж, там пообщался с кем-то «нежелательным». Если об этом каким-то образом станет известно российским властям, по возвращении в РФ этого человека могут объявить участвующим в руководстве «нежелательной организацией» и сразу посадить.
Стоит отметить, что Верховный суд РФ оставил негативный отзыв на законопроект, указав, что предложение ужесточить уголовную ответственность должно сопровождаться «мотивированным обоснованием, подтвержденным убедительными сведениями и статистическими данными, свидетельствующими о недостаточности существующего правового регулирования», а также «специальными исследованиями, доказывающими целесообразность введения новых норм». Ничего подобного инициаторами законопроекта представлено, естественно, не было. Поэтому пока есть небольшая надежда, что новые нормы не будут приняты.
Дело в том, что с нежелательными организациями часто сравнивают статус инагента — его, мол, пережить еще можно, лишь бы организацию не признали нежелательной.
Нежелательной может быть признана только иностранная или международная организация, поэтому страхи российских НКО насчет признания «нежелательными» происходят в основном от незнания.
Вообще сегодня в России существует своеобразная «градация» статусов, которые может получить организация. Статус «иностранного агента» — самый легкий, потому что нет ответственности за участие в деятельности НКО-«инагента». Дальше — статус «нежелательной» организации, потому что уголовная ответственность за участие в деятельности наступает после административной (во всяком случае, пока). Следом — экстремистская организация, и самый плохой статус — организация террористическая. До недавнего времени существовало представление, что последние два статуса — это все-таки в первую очередь про ультрарелигиозные и националистические организации, но процесс против ФБК всё изменил.
У нас любят ссылаться, что в США тоже тебя могут признать Foreign Agent. Можно ли считать наше странное законодательства есть аналоги?
Это несравнимые вещи. Да, все отсылают к FARA в США, и в этот список тоже могут вносить и людей, и организации. Но у нас есть подробная аналитика, почему, как пишут в интернете, «вы не понимаете, это другое».
Шутки шутками, но это правда другое. Во-первых, включают в список за совершенно другие вещи — когда организации или люди действительно продвигают интересы какой-то зарубежной страны. В список FARA не внесут организацию, которая занимается защитой прав человека. В законе есть четкое указание — агент должен заниматься политической деятельностью для представления интересов иностранного принципала. В российском законе ни о какой связи между иностранными деньгами и иностранными интересами нет ни слова.
Во-вторых, последствия там другие. Там у словосочетания «foreign agent» нет коннотации «враг народа», с тобой не откажутся сотрудничать из-за этого статуса. Просто факт пребывания в этом списке означает, что человек или организация лоббирует интересы какого-то правительства. При этом лоббизм в американской политической культуре в принципе нормален и не приравнивается к враждебности.
Наш закон — это кривое зеркало FARA. У нас нет критерия действий в интересах иностранного принципала. Правозащитные организации действуют в интересах прав человека, а не иностранных государств, но это никого не останавливает. Наши власти не предпринимают даже попытки установить связь иностранного финансирования и вражеских интересов.
В общем, законодательство — минное поле, по которому невозможно спокойно пройти. Но какие могут быть практические советы для людей и организации, которые работают с иностранными деньгами и ведут общественную деятельность?
Если не входить в поле советов в духе «ведите себя потише, не привлекайте внимания», «защищайте бабушек, которым недоплачивают пенсию, а не политзеков» и т.п. — реальных способов обезопасить себя и сократить риски я лично не вижу.
Да, участникам незарегистрированных групп можно давать советы в духе «поменьше светите в публичном пространстве связью с этой группой, чтоб вас нельзя было признать должностным лицом незарегистрированной организации», но это всё из области самоцензурирования. В таком случае проще уж дать совет: «Переучись на маникюршу, пили ноготочки, а про права человека не думай».
Если правовой нигилизм нарастает, зачем такие юридические сложности, зачем пытаться придать всему формальный вид законности?
Законность хорошо подходит для пропаганды. Если сказать: мы его арестовываем просто потому, что так хотим, это может вызвать возмущение даже у тех, кто в целом поддерживает власть. Можно вспомнить, как людей раздражает неприкрытое и ничем не обоснованное полицейское насилие, например. Поэтому принимаются законы и людей наказывают как бы по закону.
Это первая причина. Вторая — эти законы висят как дамоклов меч над всеми, кто в чем-то не согласен с действующей властью. Не только над сотрудниками неугодных НКО или заметными активистами, а над всеми, кто публично выражает хоть какую-то гражданскую позицию.
Возьмем первых пятерых «физлиц-СМИ-инагентов». Среди них — гранд правозащитного движения, два журналиста, которые писали для «СМИ-инагентов», еще один журналист и гражданская активистка, которая просто вела соцсети. Такой список как нельзя более наглядно демонстрирует, что в реестре может оказаться любой, вне зависимости от степени его или ее известности и аффилированности с теми, кто уже находится в одном из реестров.
Есть шансы увернуться от этого катка, попытаться технически и юридически себя хоть немного защитить?
Повторюсь, если не рассматривать варианты типа «уйти из правозащитников в автомеханики», то я таких вариантов не вижу. Законодательство специально сконструировано таким образом, чтобы оставить тебе два варианта: либо ты живешь под мечом, висящем на волоске, либо отказываешься от гражданского активизма и постишь исключительно котиков. Выбирай, что тебе больше по вкусу.
Similar Posts:
- Tatiana Glushkova: ‘The choice is yours: either to live under constant threat or to post nothing but cute kittens in social media’
- Galina Arapova: «People have little to no understanding of what independent journalism is and how it should function in a normal society»
- Elena Shakhova: «There have been attempts to humanise the foreign agents law, but they have led to nothing good»
- Галина Арапова: «У людей нет понимания, что такое независимая журналистика и как она должна работать в нормальном обществе»
- Anna Kryukova: «I educate healthcare providers about patients’ rights»